Вячеслав Иванович Иванов 155 лет со дня рождения
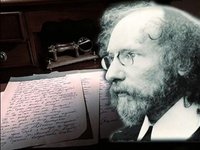
28 февраля 2021 года исполняется 155 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова (1866−1949), поэта, философа, переводчика и педагога.
Вячеслав Иванович Иванов - одна из ключевых и наиболее авторитетных фигур Серебряного века — полагал, что искусство способно преобразовывать среду, влиять на людей на основе «культурного синтеза».
Русские символисты отталкивались от греческого толкования термина «symballo» (соединять, сливать). «Принцип действенности символического искусства – это «соединение по преимуществу, соединение в прямом и глубочайшем значении этого слова. Символ – это то высшее третье, которое сочетает двоих – два уровня творения, два сознания…»
«Русская культура Серебряного века рождалась в разговорах, беседах – откровенных, свободных, вскрывавших заветные мысли…» писал академик Д. Лихачев
Творческое развитие Вячеслава Иванова отличалось внутренней логикой, последовательностью и устойчивостью его художественно-эстетической системы и «духовных координат».
Чёткая периодизация его писательского пути затруднительна, более очевидна смена периодов духовного и жизненного пути, что приводило и к смене профессий — поэта, критика, публициста, учёного и мыслителя.
Отцом будущего поэта был землемер Иван Евстихиевич (Тихонович) Иванов (1816—1871), который, овдовев, сделал предложение подруге покойной жены — старой деве Александре Дмитриевне Преображенской (1824—1896).
Рано осиротевшая внучка сельского священника, Александра была взята чтицей в семью бездетных немцев-пиетистов, и унаследовала от работодателей почтение к «Библии, Гёте и Бетховену».
От первого брака у Ивана Иванова было двое сыновей, имелся и собственный дом (Волков переулок, 19).
Через год после второй женитьбы, 16 (28) февраля 1866 года родился поздний ребёнок: отцу было пятьдесят, а матери — сорок два года.
Сына крестили в храме св. великомученика Георгия Победоносца в Грузинах.
По настоянию матери его нарекли в честь св. благоверного князя Вячеслава (Вацлава) Чешского; это имя в те времена было редким, а в сочетании с обиходной фамилией — экзотичным. После рождения сына И. Т. Иванов подал в отставку по состоянию здоровья, и использовал свободное время для чтения материалистической и
атеистической литературы, превратившись в убеждённого нигилиста.
Это регулярно приводило к домашней «теологической полемике», что сильно повлияло на становление личности Вячеслава и стало одним из первых его воспоминаний.
В 1869 году Ивановы переехали в квартиру на Патриарших прудах; глава семьи устроился на работу в Контрольную палату.
Заболев скоротечной чахоткой, Иванов-старший скончался в начале марта 1871 года, перед смертью исповедавшись и отрёкшись от материализма.
В дни болезни отца Вячеславу было видение старца «в скуфье, с бородкой, в рясе чёрной», о котором он рассказал матери.
На святки (25 декабря — 5 января 1872 года) овдовевшая А. Д. Иванова гадала по Псалтири на сына: выпали строки Пс. 151:1−2.
Александра Дмитриевна восприняла это как свидетельство поэтического призвания и начала сознательно воспитывать поэта.
Для 7-летнего сына мать договорилась об уроках иностранных языков, а сама настаивала, чтобы Иванов прочитывал по утрам по акафисту и одну главу из Евангелия ежедневно; мать и сын совершали «маленькие паломничества» с Патриарших прудов к Иверской часовне и в Кремль.
Из светской литературы 7−8 летний Иванов читал с матерью Сервантеса и Диккенса, а самостоятельно — сказки Андерсена и полный текст «Робинзона Крузо».
Вячеслава сознательно не допускали к общению со сверстниками: мать считала их «недалёкими и дурно воспитанными».
В 1874 году Вячеслава отдали в домашнюю школу Туган-Барановских, где он общался с сыном владельца — будущим экономистом и общественным деятелем Михаилом Туган-Барановским, читал «Капитана Немо» Жюля Верна и написал на урок Закона Божьего стихотворение «Взятие Иерихона», которое учитель счёл образцовым.
Осенью 1875 года 9-летний Вячеслав Иванов начал занятия в подготовительном классе Первой Московской гимназии; его поступление совпало с визитом императора Александра II.
По причине болезней первый год в гимназии почти весь был пропущен.
Когда 1876 году его приняли в первый класс, Вячеслав в кратчайшие сроки стал лучшим учеником. В тот период Иванов увлекался романтизмом и Шиллером.
Русско-турецкая война и патриотический подъём коснулись семейства Ивановых напрямую: оба сводных брата Вячеслава служили в артиллерии, причём одного взяли ординарцем М. Д. Скобелева.
На этот же период пришёлся пик детской религиозности Вячеслава, причём мать беспокоила его экзальтация. Поскольку материальное положение семьи было тяжёлым — немногие оставшиеся от И. Т. Иванова средства иссякли.
С 13-летнего возраста Вячеслав служил репетитором, и не дожидаясь начала занятий по древнегреческому языку, взялся за него самостоятельно. Гимназическое начальство считало его вундеркиндом, ему прощалось нарушение режима и пропуски.
Консультациями Вячеслава пользовались при переводе греческих текстов; а его сочинения зачитывались на уроках литературы как образцовые.
6 июня 1880 года он был приглашён на церемонию открытия памятника А. С. Пушкину на Тверском бульваре и допущен на торжественное заседание в Московский университет.
На акте Иванов лично видел Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева. Так началось его увлечение творчеством Достоевского, продолжавшееся всю жизнь.
В начале 1881 года в жизни Вячеслава Иванова начался глубинный перелом, который маркировался кризисом детской веры: «…внезапно и безболезненно я сознал себя крайним атеистом и революционером».
Покушение народовольцев на царя Александра 1 марта 1881 года и казнь С. Перовской, А. Желябова и Н. Кибальчича с товарищами 3 апреля привели к конфликту Вячеслава с матерью и одноклассниками.
Он стал читать радикальную литературу, по ночам, несмотря на крайнюю загруженность уроками и работой.
В 1882 году Иванов подружился с одноклассником — А. М. Дмитриевским. На последний, выпускной класс 1883—1884 годов пришёлся пик радикальных исканий Иванова.
Вместе с Дмитриевским он перевёл триметрами отрывок из «Эдипа-царя» Софокла и написал поэму «Иисус» об искушении Спасителя в пустыне, сюжет которой разрешился в революционном духе. Была предпринята и практическая попытка претворения идеала в жизнь, едва не закончившаяся самоубийством.
Вячеслав Иванов всё больше времени проводил в доме Дмитриевских (Остоженка, 19) и на летней даче, где начались его отношения с сестрой Алексея — Дарьей Михайловной (1864—1933), которая тогда училась в Консерватории.
Окончив гимназию с золотой медалью, Иванов вместе с А. Дмитриевским поступил на отделение исторических наук историко-филологического факультета. На первом курсе друзья, «посвятившие себя служению народу», посещали только «избранные лекции» — В. О. Ключевского,
В. И. Герье и П. Г. Виноградова. На первом же курсе Иванов получил премию за латинское сочинение и письменную работу по греческому языку и выиграл стипендию на два года.
Его влечение к Дарье Дмитриевской усиливалось, и 19 марта он записал в её альбом стихотворное признание в любви.
Алексей всячески поощрял их отношения, в результате они образовали «триумвират». Чтобы заработать, Иванов на лето отправился репетитором в подмосковное имение Головиных, причём возникла дружба с Фёдором Александровичем — одним из подопечных.
Хозяева имения, познакомившись с рукописями стихов Иванова, впервые назвали его «символистом», хотя до оформления этого движения в России было ещё около десятилетия.
Возобновив занятия в университете в 1886 году, Иванов явно испытывал дискомфорт от своих народнических идеалов. Об этом свидетельствовало стихотворение «Раздумья» («О, мой народ! Чем жертвовать тебе?»).
Он завершил вторую поэму о Христе, причём родители одного из его учеников (главный заработок по-прежнему давало репетиторство) отдали поэму в редакцию «Русского Вестника».
М. Н. Катков согласился её печатать, но Дмитриевские возмутились желанием опубликоваться в «реакционном» журнале, и Вячеслав Иванов снял публикацию.
Поэма была посвящена еврейскому мальчику, горящему запретной для него, но непреодолимо сильной любовью ко Христу, и, по словам С. Аверинцева, «маскировала чувства юноши, присягнувшего атеистическим прописям, однако рвущегося к вере», и напоминала нарративные стихи Гейне.
Под влиянием П. Виноградова — главного своего наставника — Вячеслав решился окончательно ехать в Германию «за настоящей наукой», тем более, что «дальнейшее политическое бездействие — в случае, если бы я оставался в России — представлялось мне нравственною невозможностью. Я должен был броситься в революционную деятельность: но ей я уже не верил».
Виноградов разработал программу занятий Иванова у Гизебрехта, Зома и Моммзена. По С. Аверинцеву, «это было бегством от политической дилеммы и некоторым подобием эмиграции».
4 июня 1886 года — перед самым отъездом в Германию — 20-летний Вячеслав Иванов обвенчался с Дарьей Дмитриевской.
Мать Вячеслава не была в восторге от «студенческого брака», но соглашалась, что сын не мог «скомпрометировать девушку», покинув её на неопределённый срок.
Сам Иванов легкомысленно утверждал, что ехать за границу вдвоём было «веселее».
В 1886 по окончании двух курсов историко-филологического факультета Московского университета уехал в Берлин, где написал исследование о системе откупов в римском Египте, одобренное Т. Моммзеном.
С 1891, увлекшись Ницше, специально изучает в Афинах культ Диониса. В 1895 соединяет свою судьбу с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал (1865— 1907).
Знакомится с оказавшим на него сильное влияние В.С. Соловьевым.
После публикации в России первой книги стихов («Кормчие звезды», 1903), вызвавшей восторженные отзывы, Ивановы переселяются в 1905 в Петербург, где на «башне» проводятся знаменитые «Ивановские среды».
У Иванова завязываются тесные (хотя и довольно сложные) отношения с Бальмонтом, Белым, Бердяевым, Блоком, Брюсовым, Эрном и др. Он становится одним из лидеров русского символизма и активно влияет на его развитие. Проявляет спорадический интерес к теософии. С 1913 живет в Москве; сближается с Флоренским и Скрябиным, интересуется православной догматикой.
На стыке веков произошел уникальный случай совпадения социальной, научно-технической и художественно-философской «революций». Не случайно «Серебряный век» называют периодом «великого синтеза». В русской художественной культуре происходит необычайная по силе, всесторонности и динамизму активизация процессов взаимодействия различной творческой деятельности.
«Большой диалог» культуры Серебряного века – это, прежде всего, диалог его двух основных этапов: символизма и модерна 1890−1900-х годов и авангардного искусства 1910-х годов.
Многоуровневая интеграция становится знаком эпохи, важнейшим эстетическим принципом. Одно искусство проникало в другое, дополняя его и обогащая, усиливая выразительные возможности каждого.
Диалог искусств в прямом и переносном смысле происходил в различных литературных кружках и объединениях.
В Москве и Петербурге насчитывалось более 350 сообществ.
Творческая интеллигенция в общении старалась понять свои идеи и тот стиль жизни в начале века, при котором сам мир как бы превращался в произведение искусства.
В Петербурге самым известным считался литературный салон поэта Вячеслава Иванова и его супруги Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал, который располагался на Таврической улице и получил название «Башня».
Это было связано с тем, что дом, в котором жила чета, имел очень необычное строение: угол был построен в виде башни с возвышавшимся над ней куполом, откуда открывалась панорама Петербурга.
Само название «Башня» как бы символизировало оторванность от мира собиравшихся здесь творческих людей.
«Ивановские среды» проходили сравнительно недолго: начавшись в 1905 году, закончились в 1909, поскольку Иванов перенес их в редакцию журнала «Апполон».
На собраниях «Башни» ставились и обсуждались вопросы литературы, живописи, театра, новой эстетики и этики, философии, богословия и антропософии.
Широта в оценке чужого творчества, энциклопедическая образованность, дар притяжения людей и их взаимного соединения позволяли хозяину салона примирять и объединять представителей различных направлений и стилей в культуре.
Уникальность культуры рубежа XIX-XX столетий заключена в том, что ее возводили творцы разных взглядов на мир, дополняя и споря друг с другом, иногда до хрипоты, иногда до разрыва отношений, они создали этот чудесный, наполненный парадоксами сплав.
Почти вся поэзия «Серебряного века» прошла через «Башню»: А. Блок, Ф. Сологуб, А. Ахматова, Н. Гумилев, С. Городецкий, М. Кузмин, З. Гиппиус, В. Брюсов посещали «среды». На Таврической можно было видеть начинающих поэтов – Г. Иванова, В. Ходасевича. Для поэзии рубежа веков литературный салон стал первой поэтической академией.
В 1921 Иванов переезжает с детьми в Баку, где преподает в местном университете, а в 1924 навсегда покидает Россию и обосновывается в Италии.
В 1926 Иванов, говоривший о необходимости дышать в религии «обоими легкими», присоединился к католичеству восточного обряда, не отрекаясь от православия (на что понадобилось специальное разрешение Ватикана).
В символизме Иванов различал идеалистическую и реалистическую тенденции, отстаивая последнюю; в теории творчества, используя собственную концепцию соотношения аполлонического и дионисийского, обосновывал оппозицию мистического восхождения и нисхождения, лежащую в основе творческого процесса.
Считал необходимым реформировать современный театр, возродив его изначальную мистериальность; аналогичные идеи развивались по отношению к роману, который должен вернуться к трагедии как своему истоку («Достоевский и роман-трагедия»).
В нравственной сфере утверждал приоритет диалогизма, основывая его на религиозной формуле «Ты еси».
В 1910-е гг. констатировал глубокий кризис русского символизма. Иванову принадлежит оригинальная научная концепция о языческой мифологии как о «предуготовлении» к христианству («Дионис и Прадионисийство», 1923).
На Западе в связи со своеобычной трактовкой гуманизма широкую известность приобрела книга «Переписка из двух углов» (1921; совместное М.О. Гершензоном).
Будучи поэтом-философом интеллектуально-мистического склада, Иванов стремился «систематически» выразить органичную связь эпох посредством «переклички» универсальных символов; даже в лирике преимущественно пользовался сложными формами (циклы, «венки сонетов», триптихи и др.).
Поэзия Иванова, изобилующая сложно организованной символикой разных эпох, трудна для восприятия, однако смысловая ткань его поздних стихов стала прозрачней (сб.: «Cor aniens», 1911 — 12, «Нежная тайна», 1912 и др.; мелопея «Человек», 1915—19; трагедии «Тантал», 1905, «Прометей», 1919).
В последние годы жизни (1928—49), внешне отойдя от символизма, работал над принципиально новым по художественным задачам произведением — «Повестью о Светомире Царевиче», написанной оригинальной ритмической прозой и преломляющей эллинско-византийскую традицию в национально-русской жанровой форме.



